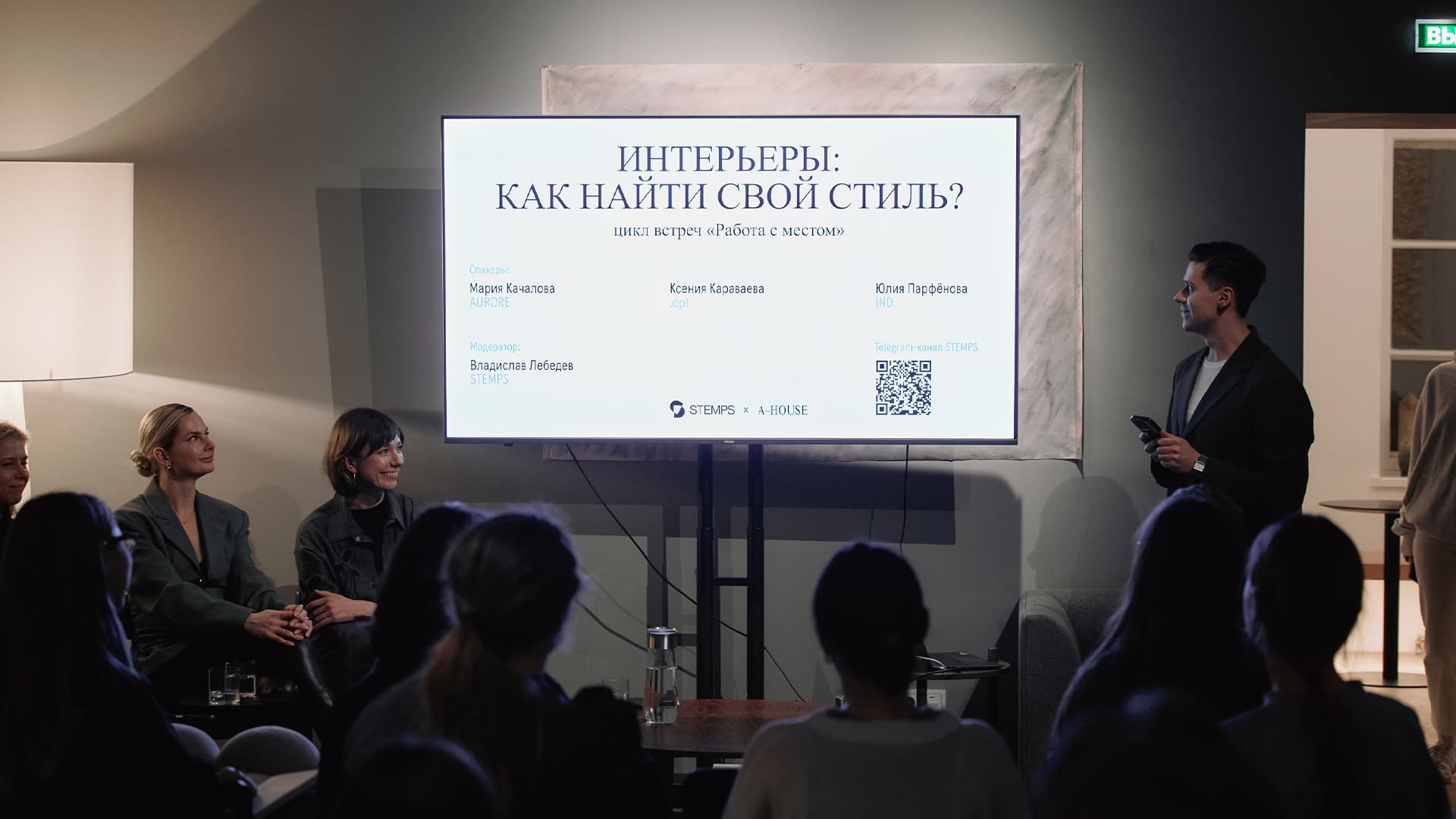Метамодерн в кино и в архитектуре: конспект дискуссии фестиваля «День архитектора»
Сквозной темой фестиваля «День архитектора», который прошел в Москве 4 и 5 июля, стал город как воплощенный сценарий и архитектура как режиссура самой жизни. В рамках дискуссии «Метамодерн в кино и в архитектуре» эксперты обсудили, как в этих областях проявляется новая искренность, и чего сегодня зритель ждет от кино, а горожанин — от архитектуры. Мы публикуем конспект разговора с ключевыми тезисами спикеров.
Участники
- Трифон Бебутов (модератор дискуссии), генеральный продюсер, основатель и медиаменеджер издания DREAMCAST
- Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, сценарист, преподаватель Московской школы кино
- Елена Пудова, урбанистка, продюсер архитектурных бюро, автор блога Урбандвиж
- Ольга Алексеенко, архитектурный фотограф, преподаватель МАРШ
- Никита Токарев, декан факультета архитектуры Универсального университета, Архитектурная школа МАРШ
Никита Токарев: На мой взгляд, между современной архитектурой и кинематографом существует органичная связь — хотя бы потому, что они появились примерно одновременно. Кинематограф рождается в начале XX века, и тогда же возникает то, что мы называем современной архитектурой. Дело не только в хронологии, но и во внутреннем родстве: в архитектуре становится важным эффект движения, она начинает строиться вокруг перемещения, передвижения зрителя. Вспомним хрестоматийный пример — Ле Корбюзье, который говорил о смене ракурсов. Интерьер здания или вообще его восприятие — это постоянная смена точек обзора, видов. Здание не воспринимается статично. А что это, если не монтаж в кино? И окна здания, по сути, становятся кадрами, обрамляющими пейзаж — или, наоборот, при взгляде снаружи, фрагментируют пространство внутри.
Ольга Алексеенко: А фотография — она скорее не про движение, а про взгляд. Мне кажется, она работает как зеркало: мы можем увидеть, что происходит, в том числе с архитектурой, через фотографию, и заметить, как меняется сам способ видения. Потому что эволюция зрения происходит постоянно — под влиянием техники, культуры, архитектуры.
В архитектурной фотографии архитектура становится главным героем. Мы можем представить ее очень торжественно, как главного героя, комплиментарно, а можем — и критически. Есть еще фотография, которую можно назвать художественной. Архитектура существует долго, вокруг нее происходят разные события, она впитывает их, становится свидетелем истории и носителем новых смыслов.

Модернизм очень громко прозвучал в архитектуре. Потом наступила эпоха постмодерна — эпоха иронии, сарказма, фрагментации, цинизма. Мы как будто посмеялись над всем. А потом вдруг начинается разговор о чем-то другом. Мы говорим, что постмодерн заканчивается — или уже закончился — и начинается новая эпоха. И в этой новой эпохе смех — настоящий, не ироничный, не циничный. Речь уже не о фрагментации, а о соединении разного.
Больше всего я это вижу не в профессиональной архитектурной фотографии, а у студентов, которые только начинают снимать. То, как они фиксируют город, архитектуру, сильно отличается от того, как это делалось даже 10 лет назад. Это внимание ко всему — и к значимому, и к незначимому. Если раньше каноническая архитектурная фотография напоминала отрендеренные картинки — все вычищено, отполировано, показано с лучшей стороны, — то сегодня, как мне кажется, она все больше про жизнь. Тем более что красивый рендер теперь можно сделать очень реалистичным. А вот случайное, незапланированное — то, как человек живет в городе, какой след он оставляет, и не только человек — все это становится настоящим предметом интереса.

Елена Пудова: Метамодерн существует и в контексте города. И если коротко — это искренность. Когда город умеет с нами говорить и главное — слушать. Вот буквально вчера я прилетела из Сочи, и мы с мужем выбирали, как ехать из Домодедово — метро или МЦК. Выбрали МЦК, потому что там меньше ступенек. Это мелочь, но очень показательная: город учитывает не только условного сильного мужчину, но и женщину с чемоданами, каблуками, кофейным стаканом — или человека с ограничениями. Демократичное, доступное пространство — вот она, новая искренность.
Трифон Бебутов: Говоря о потреблении, характерном для постмодернизма и мета-модернизма, важно отметить отсутствие желания выбирать. Потреблять — да, но не выбирать. И здесь, мне кажется, интересно обсудить, как это отражается в архитектуре. Если раньше запрос был просто на качественную квартиру, то теперь — на целую среду. Люди выбирают не только жилье, но и инфраструктуру: кафе, спортзал, безопасность, парковку, лифт — все сразу, в комплексе. Это уже не просто частное пространство, а целая система потребления.


Никита Токарев: Мы не можем «проглотить» все — нужно делать выбор и нести за него ответственность. Это важный навык для архитектора, которому мы учим студентов. Город — пространство выбора: здесь есть и история, и современность, и разный ценовой диапазон. Да, выбор сегодня облегчен — приложения подсказывают, где меньше ступенек, например, — но он никуда не исчез.
Елена Пудова: В период пандемии появились удивительные, уникальные торговые предложения от девелоперов: в нашем доме есть свой фитнес-центр, своя аптека, свой медицинский центр, детский сад — и вы вообще можете не покидать оболочку нашего жилого комплекса. С одной стороны, это, конечно, здорово. А с другой — меня лично это очень сильно пугает.
Допустим, мы все с вами живем в каком-нибудь условном ЖК. Все, как в концепции «15-минутного города»: все твои повседневные потребности закрываются в пределах пешей доступности. Если вы архитекторы, вы понимаете, о чём я говорю. Но возникает вопрос: как часто мы из этого прекрасного района будем выбираться в Третьяковку? Когда мы в последний раз были в Большом театре? Когда поехали в ГЭС-2? Или даже просто приехали на такое мероприятие, как сегодняшнее? Вот это и пугает. С одной стороны — комфорт, а с другой — ты замыкаешься. Начинаешь воспринимать город в пределах своего забора — в буквальном смысле. А для меня, как для градостроителя, это не совсем хорошо.


Ольга Алексеенко: Дополню коллег по поводу жилых кварталов, где есть все. Это, на мой взгляд, связано с Новой Москвой и новыми территориями, которые осваиваются строительством. Обычно там нет инфраструктуры, как в центре, — если взять, например, зону вдоль МЦК, это по сути промзона. Поэтому, когда строится какой-нибудь ЖК, понятно, что внутренняя инфраструктура необходима — иначе там просто невозможно жить. Не думаю, что это признак новой эпохи — скорее логика развития окраин. Тем более, у нас уже был период домов-коммун, где все было сосредоточено в одном месте.
Всеволод Коршунов: С одной стороны, метамодернизм действительно связан с гуманистическим разворотом, новым витком антропоцентризма. Но с другой — если вспомнить, например, Ги Дебора и его «Общество спектакля», становится ясно, что есть и другое давление.
Сегодня, благодаря успехам медицины, люди живут дольше, позже взрослеют, задерживаются в состоянии молодости до 40–45 лет. Это позитивно, но одновременно приводит к инфантилизации общества. А инфантильность — это в том числе страх выбора, отказ от ответственности, стремление «иметь всё и сразу» без потерь. Это очень детская позиция.
Современные системы координат, вроде консьюмеризма, активно используют эти тенденции. Когда ты живешь в новом доме-коммуне и покупаешь клубнику только у одного производителя, ты вроде бы живешь удобно — но на деле лишаешься выбора. А выбор — это основа субъектности. Без него ты передаешь решение алгоритмам, маркетингу, обстоятельствам. И вот в чем парадокс: в погоне за комфортом мы незаметно теряем свободу и субъектность. Это противоречие, на мой взгляд, и есть важнейший, пока не до конца осмысленный вызов нашего времени.

Никита Токарев: Если кинематограф чему-то меня и учит в отношении архитектуры, так это скромности. Кино показывает, что архитектура — это декорация нашей жизни, а главные роли играют люди. Мы смотрим фильм не ради архитектуры, а ради того, что происходит с персонажами. Хотя бывают отдельные фильмы, где архитектура становится важным героем — например, «Метрополис» Фрица Ланга. Но если вспомнить этот фильм, архитектурных видов фантастического города там всего пару минут из полуторачасовой или двухчасовой картины. Все остальное — про людей. Так что архитектура — это декорация, но не в смысле фальши, а в том, что она служит вместилищем нашей жизни, того, что происходит на экране и в жизни.
Всеволод Коршунов: На мой взгляд, время жестких инъекций и моделей, которые навязываются зрителю, прошло. Сегодня, скорее, речь идет о том, что режиссер рассказывает зрителю о своей боли, надеждах, радостях и печалях. Он делится ими, и именно так это, по моему мнению, лучше всего работает.
Это интересно связано с программированием восприятия. Конечно, избежать программирования восприятия невозможно, ведь кино — нарративное искусство. Но как именно это происходит сегодня? Думаю, над этим стоит поразмышлять.
Организаторами фестиваля «День архитектора» выступают архитектурное бюро ARCHINFORM и коммуникационное агентство «Правила Общения»
Все фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «День архитектора».